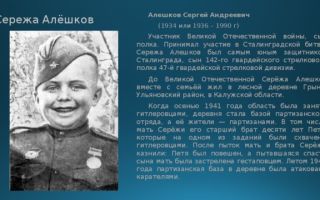Рассказы об участниках войны


Рассказы об участниках войны | |
В семнадцать лет на трактор
Рассказы об участниках войны | |
Рассказы об участниках войны | |
Рассказы об участниках войны | |
Рассказы об участниках войны | |
Рассказы об участниках войны | |
Источник: http://pochemu4ka.ru/publ/rasskazy_dlja_detej/rasskazy_ob_uchastnikakh_vojny/255 Наша память о войне – наша совесть :: Выксунский рабочий
Когда «ВР» объявил о сборе материалов, посвящённых 70-летию Победы, в редакцию тут же стали поступать от читателей сведения о родственниках; фотографии тех, кто воевал, а также тружеников тыла, детей войны. Данных собрано очень много – сегодняшнее поколение хочет, чтобы как можно больше имён защитников нашей Родины вспомнилось, никто не должен быть забыт. Когда смотришь на эти фотографии с фронта, щемит сердце: осознаёшь, как люди хотели, торопились жить, верили, что война скоро кончится. Столько силы и жизнелюбия в их молодых лицах, столько стойкости духа и уверенности в Победе! Кто-то из этих героев на снимках пропал без вести, кто-то похоронен на чужбине. А кто-то вернулся домой и долгие годы хранил бесценные фотографии как вечное напоминание о нечеловеческих испытаниях, через которые пришлось пройти… Встреча этих молодых, красивых людей произошла на войне, связавшей их судьбы. Григорий Петрович родился в Семилово в многодетной семье. Ушёл на фронт в 1941 году. Служил в войсках НКВД уполномоченным особого отдела контрразведки «СМЕРШ» 243-й стрелковой дивизии Калининского фронта, воевал под Москвой, на Курской дуге. В 1945 году участвовал в разгроме Квантунской армии Японии на Дальневосточном фронте.
Марта Захаровна родом с Украины. В сентябре 1941 года ушла добровольцем на фронт, закончила курсы машинисток-телеграфисток. Служила секре-тарём-машинисткой особого отдела 243-й стрелковой дивизии до 1945 года. Принимала секретную информацию из полков, занималась её обработкой, передачей командованию и шифровкой особо важных сообщений. Местом её работы чаще всего был блиндаж с печатной машинкой, сейфом для секретных документов, неизменной «коптилкой» и обязательной вооружённой охраной снаружи. В штабе этой части служил и Григорий, здесь и встретились будущие супруги.
Они верили в будущую счастливую семейную жизнь, а больше всего – в Победу! Марта награждена медалью «За отвагу» за героический поступок (сбила фашистский самолёт), орденом Отечественной войны II степени, имеет другие награды. После окончания войны переехала на родину мужа в Выксунский район, работала на ВМЗ. Николая Ивановича Витушкина из Нижней Вереи в армию призвали ещё в 1939 году. В село вернулся в 1941-м, а через несколько месяцев началась Великая Отечественная. Служил в железнодорожных вой-сках 1-го Белорусского фронта. В 1945 году с запада отправился на Дальний Восток – на войну с Японией, но пока ехали, она закончилась. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Варшавы» и другими. Участвовал в восстановлении мостов, строительстве путей, в Выксу вернулся в 1946 году, работал в Лесоторфоуправлении механиком.
«… как и всегда, тов. Витушкин выполнил поставленную задачу с честью: в ходе разминирования вместе со своим командиром оказался в тылу врага. Кратчайшим путём, обогнув минные поля противника, несмотря на фашистский огонь, добрался до нашей разведки и затем провёл её на сближение с немцами. Внезапно напав на них, наши разведчики захватили «языка». За самоотверженные и отличные действия представить тов. Витушкина к награде…» Выксунца смертельно ранило в Белоруссии (в Могилёвской области), там он и похоронен. Сын, Алексей Андреевич, ушёл на фронт в 18 лет. Об отчаянной храбрости, отваге юноши свидетельствуют документы о представлении его к наградам (орденам Славы): «…18.7.1944 южнее г. Ковеля тов. Витушкин со своим отделением скрытно подполз к траншее противника, ворвался в неё, уничтожил две огневые точки с расчётами, имеет на своём счету семь уничтоженных гитлеровцев»; «…31.1.1945 года в районе г. Мезеритц (Германия) тов. Витушкин со своим отделением отразил яростную контратаку противника… Одним из первых поднял отделение в бой, лично уничтожил пять немецких солдат и четверых (во главе с офицером) заставил сдаться в плен…» Алексей Андреевич Витушкин погиб и похоронен в Германии (г. Штетин). Редакция благодарит за предоставленные материалы В.Г. и Л. П. Ерошкиных, В. Н. Витушкина. Источник: http://vr-vyksa.ru/pobeda/nasha-pamyat-o-vojne—nasha-sovest/ Самара в годы войны
Даже в опасении увеличить количество страниц повествования, никак невозможно обойтись без того, чтобы не рассказать о том, как жили самарцы осенью и зимой 1941 года. Хотя бы в отдельных эпизодах, какие просятся из памяти, не претендуя на всеохватность. В истории важны, действенны не только и, несомненно, даже не столько судьбы венценосцев, узурпаторов, полководцев, святых подвижников. Обыкновенный человек без высоких титулов, вроде бы вовсе незаметная песчинка в кладке стен общественного здания — не он ли и его судьба в небольших радостях и обильной маете, не он ли и есть главный движитель истории? Тем более что крепящий раствор для возведения исторического здания замешивается не на воде, а на человеческой кровушке именно его — простого смертного.
На провинциальную Самару в годы войны, со свалившейся на нее честью и обузой стать запасной столицей, как и на всю Россию, обрушились великие беды. (ред. В советское время город Самара назывался Куйбышевом, сюда из Москвы были эвакуированы государсвенные и правительственные учреждения, весь дипломатический корпус, промышленные предприятия.) Я жил тогда в Самаре. В сознание тринадцатилетнего мальчишки необычайные события военного быта, конечно, в видимом окружении, врезались в память каменно… Я часто бывал в семье моего дяди по матери, доктора Алексея Андреевича Павлова. Он, его жена Ольга Михайловна, тоже доктор, и две дочери-школьницы жили на Галактионовской улице в изразцовом трехэтажном доме окнами на трамвайную линию, в коммунальной квартире.
Так, условно, ради ощущения, что семья живет в двухкомнатной квартире. Уже осенью 41-го самарцев стали «уплотнять». К Алексею Андреевичу тоже подселили — молодую женщину с двумя детьми. Муж ее, майор, воевал. Их жизнь за дощатой перегородкой была слышна до шороха, дыхания детей во сне. В других квартирах второго этажа вскоре также появились новые жильцы из беженцев. В уставленном ларями и сундуками, корытами и ведрами коридоре иной раз было и разойтись с затруднением. Единственная тусклая лампочка под потолком, горевшая теперь едва ли в треть накала, а иной раз и вовсе гаснувшая, позволяла только что не столкнуться лицом в лицо. Об острые углы сундуков до крови сшибали коленки. Старая, уже, казалось, за пределами физиологических возможностей, эвакуированная из-под Киева еврейка потерянно бродила в коридоре с вытянутыми перед собой немощными руками и бормотала: «Пхаво, пхаво». Очевидно, это следовало перевести приемлемо для жителей коридора: «Держись правой стороны».
На окнах повесили шторы из плотной черной бумаги — Боже упаси, чтобы щелочка света проникала наружу! Вечерами по улице ходили дежурные и проверяли светомаскировку. Командно стучали в окна: «Вас видно, закройте лучше!» Только что искры с трамвайных дуг, электрической мертвой россыпью, вроде бы напоминали — жизнь продолжается и впотьмах. Редкие военные машины крались по черным улицам, высвечивая узкими, как кинжалы, лучами затемненных фар самарские колдобины. Вскоре стало известно точно: немецкие самолеты сделали налет на железнодорожный мост через Волгу между Сызранью и Самарой. Их отогнали зенитным огнем. На уличных столбах с утра до ночи гремели черные раструбы громкоговорителей. Леденящий душу голос Левитана: «После упорных боев наши войска оставили город…» И вслед, ежедневная, как молитва, песня: «Идет война народная, священная война…».
Серые, едва движущиеся ленты очередей у магазинов за скудными нормами круп, жиров. Молчание. Скорбь и недоумение в глазах. Неизвестность завтрашнего дня. Самым мучительным оказалось стоять за хлебом, сжимая в кармане карточки: не потерять бы, не украли бы! Второй раз никто их не выдаст. Хлеб тогда был всегда свежим. Привозили его на лошадях, в крытых фанерных фургонах. Возчик-старик, подпоясанный кушаком, и с кнутом за голенищем сапога выглядел неприступно важно. Особенно на морозе пахло из хлопающих дверей магазина так вкусно, тепло, так изнуряюще! Если тебе повезло — отрезали ржаную горбушку с лопнувшей от жара печи корочкой.
В конце октября, начале ноября на некоторых особняках в центре города появились невиданные разноцветные флаги посольств. У подъездов или во дворах стояли машины заграничных марок с флажками на крыльях. Двери караулили милиционеры в новых полушубках и командирских портупеях, зорко поглядывая на прохожих и просто зевак. То в одном, то в другом окне посольского особняка заметишь праздно-сытое лицо чужестранца. Глядя на медлительную очередь за хлебом, гость, казалось, спрашивал у самого себя, у очереди и у времени: «Выдержат русские или нет?».
Вечерами комната Алексея Андреевича, с лампочкой в треть накала, а то и с керосиновой семилинейкой, с черными шторами на окнах больше походила на вымороженный склеп. Валенок не снимали. За скудным ужином пили чай, морковный или свекольный. Ольга Михайловна каждому за столом выдавала его долю сахара — два-три, меньше ногтя, кусочка. — Мне не клади, — раздражался Алексей Андреевич, — я сам возьму свою долю, из сахарницы. Неужели не понятно? — Ну что особенного, Алеша? Сейчас у всех так. — Я не хочу, как у всех! — Хорошо, больше не буду. Иногда пили чай с сахарином, странного цвета кристаллическим порошком. Его нельзя было употреблять часто: он, оказывается, вредил нутру.
Мы, ребятишки, с оцепенелым до немоты ужасом рассматривали в «Правде» снимок казненной Зои Космодемьянской. С дорогих папирос Алексей Андреевич перешел на базарный самосад. Неумело заворачивал в газету, чертыхаясь. Курил, выпуская дым в дверную щель. Иногда он приносил с просветленным лицом полученную по талону пачку легкого, настоящего табака. Назывался он почему-то — «За родину!». На обложке рисунок: красноармейцы идут в атаку под прикрытием танка. Легкий табак или «мошок», как его тогда называли, Алексей Андреевич набивал в папиросные гильзы хитрой машинкой. Курил в комнате, наслаждаясь.
Потом я догадался ходить на базар, где деревенские тетки, закутанные шалями, торговали самосадом из мешков. 50 рублей стакан, граненый и с бугорком. Денег у меня, разумеется, не водилось. Я находчиво хитрил. Подойдешь: лицо у тетки доброе. — Да хорош ли табочок-то? — А ты попробуй, сынок. Со своего огорода. Старик хвалит. И семена добрые. Свернув в три пальца толщиной, даром, втянешь дымку. — Нет, слабоват. Пойду еще погляжу у кого. — Ступай, милый. Все повторяется, не один раз, и в кармане уже запас на полдня. Буханка ржаного хлеба стоила 300 рублей. Белого не видели. Будто его и не было никогда. Полбутылки водки — 500. Иной раз бессовестно обманывали. Слышал я: вместо водки наливали под сургучную пробку простую воду. В куске хозяйственного мыла оказывался деревянный брусок. На толкучке нередко устраивали милицейские облавы: искали дезертиров, спекулянтов.
Приходила она обычно с обильными уголовными новостями из очередей: ограбили среди бела дня, раздели до исподнего, отняли карточки. Рассказывала самозабвенно. Слушая ее, Алексей Андреевич терпеливо морщился, поглядывал на часы. Но у гостьи было свое время. Под обеденным столом хранилась фамильная драгоценность — ящик с картошкой. Елизавета Андреевна, улучив удобный, как ей казалось, момент, нашарит за разговором две-три картофелины и сунет в карман фартука. — Ну, посидела, пора и честь знать, пошла я. Все знали о ее тайных уловках. Прощали немощной старухе диверсии. Наградили Алексея Андреевича орденом «Знак Почета». Радость в доме какая-никакая. Пришла как-то соседка, с новостями, и не иначе опять за новой данью. — Поздравьте Алексея Андреевича, ему орден дали. — Ордер? И на что? — Не ордер, а орден! — Ну-у, всего-то. А мне послышалось — ордер. Вот бы хорошо! Тогда, помимо продуктовых карточек, и ордера выдавались: на калоши, туфли, брюки или платья. Подойдет тебе, нет ли, дело не в том: продать можно или обменять на что нужное. Правда, редко талонно — ордерская удача случалась. До сих пор помнится и другая соседка, тетя Тоня, жившая в комнате рядом. Работала она на подшипниковом заводе. Одна троих малолетних детишек подымала.
Выбирала тетя Тоня из них картофельные очистки, по неумению или второпях снятых с клубней не экономно толстыми, какие можно было употребить в варево. Я с девчонками повадился ходить на спектакли Большого театра, который осенью, освоившись в Самаре, стал ставить спектакли. (ред. Большой театр был эвакуирован из Москвы постановлением Правительства, с задачей продолжать работу в тылу.) Самарский государственный академический театр оперы и балета на площади Куйбышева Мертвый мрак улицы Галактионовской. Грохот темного трамвая. Хруст снежка под ногой. Вот и площадь Куйбышева, изрытая щелями-укрытиями на случай бомбежки. Мороз и ветер. А за дверями театра — будто фантастический остров: сверканье люстр, надежное тепло, оживленные лица, звуки настраиваемых инструментов. И — бархат кресел!
И. Козловский Я слушал голоса В.Барсовой и И.Козловского, М. Михайлова и Н. Шпиллер, М. Рейзена и М. Максаковой, А.Пирогова. В антрактах, в фойе, я впервые видел дипломатов, очень близко, до запаха их одежды. Смокинги, галстуки бабочкой. Декольтированные вечерние платья дам с блеском драгоценностей. Я замечал их любопытствующие взгляды на более чем скромно одетых самарцев, редких в театре военных с серо-зелеными полевыми петлицами. Мужчины-дипломаты, сытые, ухоженные до неприличия и неприязни, курили диковинные тогда сигареты. Со стороны, тайком рассматривая заграничных гостей, я с наслаждением и завистью вдыхал чудный запах табачного дыма, неведомого в тогдашней Самаре.
Тогда, в 41-м, мальчишкой, я, конечно же, не думал, а теперь, вот на этой странице, уверен: очень удобно было дипломатам из своих лож разглядывать восторженные лица зрителей, и в который уж раз чужестранцы, безуспешно, пытались разгадать непостижимую и нам самим тайну души россиянина. Немцы на подступах к Москве, неисчислимы потери, и в то же время — высочайшее искусство в глухой провинции, и жажда радости в глазах как свидетельство неистощимой духовной силы народа. В пригороде Самары, на Красной Глинке, где жила моя семья, в прибрежных лесах, окружавших поселок, формировались воинские части. Рассматривая петлицы красноармейцев и командиров, я замечал: вчера здесь были танкисты. Ночью земля содрогалась от проходящих по недалекому от дома шоссе танков, и утром еще были заметны следы гусениц. Нынче — пехотинцы. Очевидно, все они уезжали ночью.
Он разделся и сел рядом со мной, с беспокойством поглядывая на часы с решеткой поверх циферблата. Кто-то уступил ему свою очередь. Капитан благодарно кивнул и уселся в кресло перед зеркалом. На вопросительный взгляд парикмахера сказал жестко: — Побрейте меня… семь раз. — Слушаюсь. Никто не удивился. Мы догадались: наверное, уже сегодня капитану предстояло уехать на фронт. В 41-м бриться в окопах было некогда… Источник: А. Павлов «Запасная столица». Самара: Самарский Дом печати. 1995 г. Источник: http://www.world-war.ru/samara-v-gody-vojny/ “Читаем детям о войне – 2017”
В канун Дня Победы в школы Свердловского округа высадился целый «библиотечный десант» Гуманитарного центра. Сотрудники сектора организации досуга Марина Зайцева и Лариса Савинова побывали у учащихся 1-3 классов школы № 75. Детям они читали рассказ Л. Кассиля «У доски» и «Детский дом. Лека…» Т. Кудрявцевой. «Их главные герои – сверстники наших юных читателей, это равенство сблизило сегодняшних школьников с «детьми войны», им было легче понять реалии тех далеких событий», – рассказала Л. Савинова. Серьезно отнеслись дети к минуте молчания – были задумчивы и строги.
Сорок первый – год потерь и страха Заревом кровавым пламенел… Двух парней в растерзанных рубахах Выводили утром на расстрел… Когда сотрудники информационной службы «Образование» Ольга Колесник, Анастасия Терлецкая и Кристина Рачепа пришли к учащимся 3 «б» и 4 «в» классов гимназии № 2 для участия в акции «Читаем детям о войне», то сразу заметили: ребята к встрече готовились. Классную доску они украсили изображениями орденов Великой Отечественной войны и бумажными голубями. Сотрудники ГЦ читали вслух рассказ Л. Кассиля «Алексей Андреевич», а потом вместе с детьми обсудили художественное произведение. Большое впечатление на юных слушателей произвел видеофильм о ветеранах. «Дети самостоятельно сделали вывод: быть внимательными к участникам войны, труженикам тыла, детям войны надо не в только в День Победы, но и всегда», – отметила О. Колесник. «Учащиеся 4-го класса, как старшие, были активней. Они сразу рассказали все, что знают о войне, читали стихи. И третьеклассники не были равнодушными слушателями. Мы почувствовали отдачу, радость от того, что наша встреча прошла не впустую», – поделилась впечатлениями А. Терлецкая. Елена Петухова, Дарья Высоцкая и Наталья Попова читали учащимся школы № 55 фрагменты воспоминаний наших земляков из книг «Сто лучших сочинений Иркутской области «По праву памяти» и «Война: взгляд из XXI века».
Анна Михалева, Ольга Шароглазова и Елена Арбатская побывали во 2 «б», «в» и «г» классах гимназии № 2. Они рассказали школьникам об их сверстниках, которым пришлось во время войны стать партизанами, «сынами полка», которым пришлось пережить блокаду, вражеский плен. Библиотекари беседовали с детьми о том, какие книги о войне они уже прочли. Ребята охотно поднимали руки, рассказывали о запомнившихся произведениях. Чаще всего они говорили о Ване Солнцеве – главном герое «Сына полка» В. Катаева. В ответах ребят звучало пожелание: «Чтобы не были забыты ужасы войны! Что все это не повторилось!». Школьники по очереди с выражением читали стихи о войне.
Стихи Е. Благининой и рассказы А. Приставкина звучали на встрече сотрудников ГЦ Ларисы Гаськовой, Ирины Петровой и Ирины Шороховой. В беседе с ребятами библиотекари попытались хронологически разграничить Бородинское сражение, Великую Отечественную войну, последние события на Ближнем Востоке. Сотрудники Гуманитарного центра прочли школьникам главу из книги о пионерах героях, посвященную Юте Бондаровской. Когда второклассникам показали видеоролик песни «Дети войны» (О. Юдахина – И. Резник), на глазах и мальчишек, и девчонок стояли слезы: было очевидно, что они искренне сопереживают маленьким сверстникам, детство которых совпало с военным лихолетьем. «Ребята задавали вопросы: «Откуда вы так много знаете?», – делилась впечатлениями ведущий библиотекарь Л. Гаськова. – Мы отвечали: приходите к нам в Гуманитарный центр, берите книги, читайте, вы тоже будете много знать». В акции приняли участие 454 учащихся школ. Источник: http://hcenter-irk.info/foto/chitaem-detyam-o-voyne-2017 Алексей Андреевич
У Алексея Андреевича должны быть туги тёмны усы, голос густой, плечи широкие, вид почтенный. Так считал командир войсковой части, которая расположилась у берега реки Н. Командир никогда не видел в глаза Алексея Андреевича, но слышал о нём каждый день. Бойцы, возвращаясь из разведки, докладывали, что в лесочке их встретил босой мальчуган, вывернул из карманов семь белых камешков, пять чёрных, потом вытянул верёвку, завязанную четырьмя узелками, а в конце концов вытряхнул три щепочки. И, глядя на добытое из карманов добро, неизвестный мальчуган сообщил шёпотом, что на том берегу реки замечены семь миномётов немецких, пять танков, четыре орудия и три пулемёта. На вопрос, откуда он взялся, мальчонка ответил, что его прислал Алексей Андреевич.
– Кто таков Алексей Андреевич – болтать много нечего, – объяснил он,— да и сам Алексей Андреевич не приказывал ничего говорить о нём. И командир, ежедневно получая из лесу такие важные сведения в лесу, решил, что Алексей Андреевич — это какой-то храбрый начальник партизан, могучий богатырь, с тугими усами и низким голосом. Именно таким почему-то представлялся командиру Алексей Андреевич. Однажды вечером, когда с широкой реки потянуло тёплым ветерком и вода стала совсем гладкой, словно застывшей, командир проверил посты охранения и собрался поужинать. Но тут ему доложили, что к часовым заставы прибыл какой-то парнишка и просится к командиру. Командир разрешил пропустить мальчишку. Через несколько минут он увидел перед собой невысокого паренька лет тринадцати-четырнадцати. Ничего особенного в нём не было. Мальчишка с виду казался простоватым и даже немного непонятливым. Он шёл слегка разболтанной походкой, и слишком короткие штанины мотались из стороны в сторону над его босыми ступнями. Но командиру показалось, что мальчишка только прикидывается таким простачком. Командир почуял какую-то хитрость.
— Разрешите доложить, товарищ командир? Алексей Андреевич. —Ты?! — не поверил командир. —Я самый. Заведующий переправой. — Чем? Чем заведующий? — переспросил командир. — Переправой, — раздалось из-за куста, и сквозь листву просунулся мальчонка лет девяти. — А ты кто такой? — спросил командир. Малыш вылез из куста, вытянулся и, поглядывая то на командира, то на своего старшего товарища, старательно выговорил: —Я — для особых поручениев. Тот, кто назвался Алексеем Андреевичем, грозно покосился на него. — Для пору-че-ний,— поправил он малыша. — Сто раз сказано! И не лезь, покуда старший говорит. Сызнова вас учить надо? Командир скрыл улыбку и внимательно оглядел обоих: и старший, и маленький стояли перед ним навытяжку. — Это Валёк, порученец мой,— пояснил первый,— а я заведующий переправой. У маленького порученца от волнения всё время шевелились пальцы босых, запылённых, но аккуратно сдвинутых носками врозь ног. —Заведующий? Переправой? — удивился командир. —Так точно. —Где же это твоя переправа? —В известном месте,— сказал паренёк и посмотрел на маленького. Тот только носом шмыгнул: понимаем, мол, небось… – А ты откуда явился? – Из посёлка. Вон там, за лесом. – А по фамилии как тебя? – допытывался командир. – А по фамилии – я потом только вам сажу, а то может семейству моему вред получится. Немцы узнают – отместку за меня сделают. – За что же немцы тебе мстить будут? – Как за что? – Паренёк даже обиделся, малыш не удержался и фыркнул; старший строго поглядел на него. – Как за что? За переправу. —Да что это за переправа такая? — рассердился командир.— Крутит тут мне голову: переправа, переправа… А ничего толком не объяснит. —Можно стоять вольно? — спросил паренёк. —Да стой вольно, стой как хочешь, только скажи толком: чего тебе от меня надо?
—Обыкновенная переправа,— неторопливо начал старший. — Имеется, значит, плот. Под названием «Гроб фашистам». Сами связали. Нас восемь человек, а я заведующий. И мы с того берега, где немцы, трёх раненых наших на эту сторону переправили. Они вон там, в лесу. Мы их там укрыли, маскировку сделали. Только далеко их тащить тяжело. Вот мы к вам и прибыли. Их надо в посёлок унести, раненых. —Что же, немцы вас не заметили? Как же вы у них под носом на своём плоту путешествуете? – А мы всё под бережком, под бережком, а потом там у нас коряга есть, мы от неё уж на ту сторону переваливаем. Тут у речки изгиб. Вот и не видно нас. Они заметили было, стрелять начали, а мы уже к месту назначения прибыли. —Ну, если правду говоришь, молодец, Андрей Алексеевич! — сказал командир. —Алексей Андреевич,— тихо поправил паренёк, скромно глядя в сторону. Через полчаса Алексей Андреевич и его «порученец» Валёк привели командира и санитаров к раненым, которые были спрятаны в лесу, там, где река размыла берег и толстые корни деревьев переплелись, как шалаш. — Вот тут! — указал Алексей Андреевич. Из-под корней выскочили, карабкаясь по берегу, четверо ребят. – Смирно! – скомандовал Алексей Андреевич и повернулся к командиру. – Команда пионерской переправы в сборе. Раненые как раз тут. У судна выставлена охрана. Переправа к выполнению боевых заданий готова. – Здравствуйте, товарищи! – поздоровался командир. Ребята дружно ответили, только из-за дерева, нависшего над берегом, с некоторым опозданием прозвучало: «Здравствуйте». И Алексей Андреевич объяснил, что это – двое дежурных, которые охраняют спрятанный плот. Вскоре трое тяжело раненных красноармейцев были уложены санитарами на носилки. Двое из раненых бойцов были в забытьи и только тихо изредка стонали. Третий, схватив ослабевшей рукой командира за локоть, тяжело двигая губами, всё порывался сказать что-то . Но у него выходило только:
Санитары унесли раненых в посёлок. А командир пригласил ребят поужинать к себе. Но Алексей Андреевич заявил, что подходит самое время для работы и он отлучиться не может. На следующий день Алексей Андреевич принёс командиру бумажку, на которой был нарисован план расположения немцев. Он сам нарисовал его, пробравшись на тот берег. —А сколько у них пулемётов и орудий, не заметил? — спросил командир. —Сейчас получите всё в точности,— ответил Алексей Андреевич и свистнул. Тотчас из кустов высунулся долговязый парень в очках. —Это при нашем плоте счетовод, Колька,— пояснил Алексей Андреевич. —Не счетовод, а булгахтер,— мрачно поправил долговязый. – Бухгалтер! Сто раз сказано! – сказал Алексей Андреевич. У «бухгалтера» оказался точный, завязанный узелками на верёвке, собранный из камешков и палочек, список всех пулеметов и орудий, которые немцы установили на другом берегу. —А как насчёт броневиков? Не видали? —Это уже надо у Серёжки спросить,— отвечал Алексей Андреевич.— Я нарочно рассредоточил по всем, чтобы у каждого понемножку было. А по камешкам да щепочкам немцы не узнают. Это у каждого в кармане бывает. Если кто и попадётся, остальные своё доделают. Эй, Серёжка! — крикнул он. И тотчас из-за кустов вышел наголо стриженный и загорелый увалень. У него был десяток ракушек, обозначающих немецкие броневики и танки. —Может, вам винтовки нужны? — вдруг сурово спросил Алексей Андреевич. Командир рассмеялся: — А вы что, не только плоты мастерите, но и винтовки, выходит, производите? Так, что ли? — Нет,— отвечал, не улыбаясь, Алексей Андреевич.— У нас готовые, немецкого производства. Присылайте вечером за ними к переправе в ноль часов пятнадцать минут. Только чтобы точно.
— Принимайте оружие,— зашептал Алексей Андреевич. Восемьдесят немецких винтовок передали пионеры-плотогоны в эту ночь красноармейцам. Алексей Андреевич аккуратно пересчитал их и что-то отметил у себя в записной книжке. – Как же это вы ухитрились всё-таки? – спросил командир у ребят. – А они там пьяны. Вот мы подползли и умыкнули. Очень просто. Три раза туда плавали. Один раз и воду было упустили, нырять пришлось. – А больше никаких приключениев не было, – вдруг подал голос Валёк. Всё думали, что он уже заснул, прикорнув на пеньке. – Ты уж молчи: «приключениев»!.. Сто раз сказано: приключений. — Ну, вы просто молодцы, ребята, — с искренним восхищением сказал командир,— здорово работаете! Эта вы, пожалуй, пушку притащить можете. – И пушку можем, –спокойно согласился Алексей Андреевич. Оказалось, что на том берегу, в болотной тине, накануне завязла немецкая пушка. Ребята высмотрели это место. Днём немцы пытались вытянуть орудие на берег, на сухое место, но у них ничего не вышло. Командир отрядил семерых бойцов в помощь ребятам. Команда Алексея Андреевича заняла свои места на бревенчатом плоту. Ребята и бойцы стали грести руками, досками и лопатами. И плот «Гроб фашистам» тихо поплыл по ночной реке.
Уже начинало светать, когда вдруг с того берега раздались беспорядочные выстрелы. Немцы заметили плот и открыли огонь по нему. Но было уже поздно. Командир увидел, что плот завернул за изгиб берега. Командир бросился туда. К утру в распоряжение части были доставлены вытащенные из тины оставленные там фашистами пушка и миномёт. – И совсем наоборот, – очень довольный ошибкой своего заведующего, поправил Коля-бухгалтер, совсем обратно: пушка – сорок пять миллиметров, а миномёт – восемьдесят два. И он торжествующе показал свою запись. Но бедный Алексей Андреевич уже так зевал, что спорить не мог. Командир уложил ребят в своей палатке. Алексей Андреевич хотел оставить дежурных у плота, но командир поставил там своего часового. Настоящий часовой охранял в эту ночь славный пионерский плот «Гроб фашистам», а заведующий переправой и семеро его помощников, укрытые шинелями, сладко посапывали в командирской палатке.
— Ну, Алексей Андреевич,— сказал он,— спасибо тебе за службу. Пригодилась нам твоя переправа. Что ж тебе подарить на память? – Да что вы!.. Мне ничего не надо. – Погоди, – остановил его командир. – Вот, Алексей Андреевич, друг, получай от меня. Носи с почётом. Зря не бахай, попусту не грозись. Оружие боевое. – И, отстегнув наган, он протянул его заведующему переправой. У ребят загорелись глаза от восторженной зависти. Алексей Андреевич взял обеими руками револьвер. Он медленно поворачивал его и осторожно прицелился в дерево. Командир, взяв его за руку, наклонившись, поправил прицел. Все молчали. Алексей Андреевич хотел что-то сказать, открыл рот, но словно задохнулся на минуточку, кашлянул и промолчал. Вот она, сбылась его мечта!.. Настоящий наган, боевое оружие, тяжёлый, стальной, семизарядный, лежал у него в руке, принадлежал ему. https://www.youtube.com/watch?v=tGUdi81XMeI Но вдруг он вздохнул и протянул наган обратно командиру. – Нельзя, – тихо проговорил он, – нельзя мне его при себе держать. Попадёшься ещё немцам, обыщут, вот и узнают, что мы разведчики.– Что ты, Лёшка! – не выдержал Валёк-порученец. – Бери! – Я тебе не Лёшка… сто раз сказано! Я же не за себя опасаюсь. А через это всех нас пострелять могут. Мы должны тайно действовать. Как будто совсем простые, вольные ребята. А тут сразу поймут, что мы разведчики. Нет уж, возьмите, товарищ командир. И, не глядя на командира, он сунул револьвер. Командир не раз вспоминал в этот день маленького заведующего переправой. Очень важные сведения дали командиру ребята. Фашистский батальон с танками и двумя взводами мотоциклистов был разгромлен в этот день. Вечером командир составлял список бойцов, представляемых к награде, и первым он поставил имя пионера Алексея, заведующего переправой через реку Н., славного командира плота «Гроб фашистам»… Командир написал полную фамилию Алексея Андреевича. Но я вам сейчас не могу ещё назвать её, потому что сё. Что рассказано здесь, – истинная правда. И нельзя выдавать имя заведующего переправой, пионера Алексея, потому что и сейчас ещё он действует в тылу у фашистов, на фронте западного направления. Л. Кассиль «Мурзилка» 1942 № 2 Источник: https://murzilka.org/izba-chitalnya/read-together/proizvedenija-o-vojjne/aleksejj-andreevich/ О рассказе льва кассиля «алексей андреевич» (мурзилка,1942, №1-2, с.4-7)
|
О писателе Льве Кассиле мы уже говорили в разделе «Вместе с партизанами» («Рассказ об отсутствующем»). В рассказе «Алексей Андреевич» писатель освещает ту же тему. Однако здесь перед нами не мальчик одиночка, а организованный отряд из восьми ребят, действующий под руководством тринадцатилетнего паренька. Об уважительном отношении ребят к своему командиру говорит тот факт, что они называют его полным именем, как взрослого – Алексей Андреевич. Под руководством Алексея Андреевича группа совершала разведку и фиксировала данные тайным способом для передачи нашим бойцам. Эта группа своими силами соорудила плот через реку, чтобы на другом берегу реки, где были немцы, разведывать их боевые силы. Лев КАССИЛЬ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (публикуется в сокращении) …Бойцы, возвращаясь из разведки, докладывали, что в лесочке их встретил босой мальчуган, вывернул из карманов семь белых камешков, пять черных, потом вытянул веревку, завязанную четырьмя узелками, в конце концов, вытряхнул три щепочки. И, глядя на добытое из карманов добро, неизвестный мальчуган сообщил шепотом, что на том берегу реки замечено семь минометов немецких, пять танков противника, четыре орудия и три пулемета. На вопрос откуда он взялся, мальчонка ответил, что его прислал Алексей Андреевич. Пришел он к разведчикам и назавтра и через день. И каждый раз долго рылся в карманах, вытаскивая разноцветные камешки, щепочки, считал узлы на бечевке и говорил, что его прислал Алексей Андреевич. – Кто таков Алексей Андреевич – болтать много нечего, – объяснял он, – да и сам Алексей Андреевич не приказывал ничего говорить о нем. И командир ежедневно получая очень важные сведения в лесу, решил, что Алексей Андреевич – это какой-то храбрый заречный партизан, могучий богатырь, с тугими усами и низким голосом. Именно таким почему-то казался командиру Алексей Андреевич. Однажды вечером … когда командир проверял посты охранения и собирался поужинать, но тут ему доложили, что к часовым заставы прибыл какой-то парнишка и просится к командиру. Командир разрешил пропустить мальчишку. Через несколько минут он увидел перед собой невысокого паренька лет тринадцати-четырнадцати. Ничего особенного в нем не было. Мальчишка с виду казался простоватым и даже немного непонятливым… Но командиру показалось, что мальчишка только прикидывается таким простачком. И действительно, как только паренек увидел командира… отчеканил: – Разрешите доложиться, товарищ командир? Алексей Андреевич. – Ты? – не поверил командир. – Я самый, заведующий переправой. – Чем? Чем заведующий? – переспросил командир. – Переправой, – раздалось из-за куста, и сквозь листву просунулся мальчонка лет девяти. – А ты кто такой? – спросил командир. Малыш вылез из-за куста, вытянулся и, поглядывая то на командира, то на своего старшего товарища, старательно выговорил: – Я – для особых поручениев. Тот, что назвался Алексеем Андреевичем, грозно покосился на него. – Для пору–че–ний,– поправил он малыша, – сто раз сказано! И не лезь, покуда старший говорит. Сызнова вас учить надо?
– Это Валек, порученец мой, – пояснил первый, – а я заведующий переправой. – Заведующий? Переправой? – удивился командир. А где же твоя переправа? – В известном месте, – сказал паренек и посмотрел на маленького. Тот только носом шмыгнул: понимаем , мол, небось. – А ты откуда явился? – Из поселка. Вон, там, за лесом. А по фамилии как тебя? – допытывался командир. – А по фамилии – я потом только вам скажу, а то может семейству моему вред получиться. Немцы узнают, отместку за меня сделают. – За что же немцы тебе мстить будут? – Как за что? – За переправу. – Да что это за переправа такая? – рассердился командир. Крутят тут мне голову: переправа, переправа, а ничего толком не объяснят. – Можно стоять вольно? – спросил паренек – Да стой вольно, стой, как хочешь, только скажи толком: чего тебе от меня надо? Ребята встали «вольно». – Обыкновенная переправа, – неторопливо начал старший. Имеется, значит, плот под названием «Гроб фашистам». Сами связали. Нас целых восемь человек, а я заведующий. И мы с того берега, где немцы, трех раненых наших на эту сторону переправили. Они вон там, в лесу. Мы их там укрыли, маскировку сделали. Только далеко их тащить тяжело. Вот мы и прибыли. Их надо в поселок унести, раненых… Через полчаса Алексей Андреевич и его порученец Валек привел командира и санитаров к раненым, которые были спрятаны в лесу, там, где река размыла берег и толстые корни деревьев переплелись как шалаш. – Вот тут! – сказал Алексей Андреевич… Вскоре трое тяжелораненых красноармейцев были уложены санитарами на носилки… На следующий день Алексей Андреевич принес командиру бумажку, на которой был нарисован план расположения немцев. Он сам нарисовал его, пробравшись на тот берег. – А сколько у них пулеметов и орудий, не заметил? – спросил командир. – Сейчас получите все в точности, – отвечал Алексей Андреевич и свистнул. Тотчас из кустов высунулся долговязый парень в очках. – Это при нашем плоте счетовод, Колька, – пояснил Алексей Андреевич. У «бухгалтера» оказался точный, завязанный узелками на веревке, собранный из камешков и палочек, список всех пулеметов и орудий, которые немцы установили на другом берегу. – А как насчет броневиков? Не видели? – Это уже надо у Сережки спросить, – ответил Алексей Андреевич. – Я нарочно рассредоточил по всем, чтобы у каждого понемножку было. Эй, Сережка! – крикнул он.
– Может, вам винтовки нужны? – вдруг сурово спросил Алексей Андреевич. Командир рассмеялся. – А вы что, не только плоты мастерите, но и винтовки, выходит, производите? Так, что ли? – Нет,– отвечал, не улыбаясь, Алексей Андреевич. – У нас готовые, немецкого производства. Присылайте вечером за ними к переправе в ноль часов пятнадцать минут. Только чтобы точно… Четверть первого как было условлено, к месту переправы пришел сам командир. Его сопровождали несколько бойцов. – Принимайте оружие, – зашептал Алексей Андреевич… Восемьдесят немецких винтовок передали пионеры плотогоны в эту ночь красноармейцам… – Ну, вы просто молодцы, ребята,– с искренним восхищением сказал командир, – здорово работаете! Этак вы, пожалуй, пушку притащить можете. И пушку можем, – спокойно согласился Алексей Андреевич. Оказалось, что на том берегу, в болотной тине, накануне завязла немецкая пушка. Ребята высмотрели это место. Днем немцы пытались вытащить орудие на берег, на сухое место, но у них ничего не вышло.
Командир уложил ребят в своей палатке. Алесей Андреевич хотел оставить дежурного у плота, но командир поставил там своего часового… Утром часть уходила на свои позиции. Ребят разбудили, накормили вкусным завтраком. Командир подошел к Алексею Андреевичу и положил ему руку на плечо. – Ну, Алексей Андреевич, – сказал он, – спасибо тебе за службу. Пригодилась нам твоя переправа. Что ж тебе подарить на память? – Да что вы!.. Мне ничего не надо. – Погоди,– остановил его командир. – Вот, Алексей Андреевич, получай от меня. Носи с почетом. Зря не бахай, попусту не грозись. Оружие боевое. – И, отстегнув свой наган, он протянул его заведующему переправой. У ребят загорелись глаза от восторженной зависти. Алексей Андреевич взял обеими руками револьвер… Но вдруг он вздохнул и протянул наган обратно командиру. – Нельзя, – тихо проговорил он – нельзя мне его при себе держать. Попадешься еще немцам, обыщут, вот и узнают, что мы разведчики. Нет уж, возьмите, товарищ командир. И не глядя на командира, он сунул револьвер…
Вопросы для обсуждения: 1. Кто такой Алексей Андреевич? Почему ребята называли своего сверстника полным именем и не хотели о нем рассказывать? Чем он заслужил их уважение? 2. Каким образом и с какой целью ребята из отряда Алексея Андреевича вели разведывательные записи? Почему они скрывали свои фамилии? 3. Зачем им нужна была переправа через реку на другой берег, где были немцы? 4. Какую помощь отраду наших бойцов оказала сооруженная детьми переправа? 5. Почему Алексей Андреевич вернул командиру подаренный им наган? Дополнительная литература: В.Богомолов «Иван» М.Зощенко «Спустя три года» В.Катаев «Сын полка» Б.Полевой «Разведчики» Э.Казакевич «Звезда» Раздел 10. ОНИ СПАСАЛИ РАНЕНЫХ Во время войны санитарки, среди которых было много совсем юных, проявили подлинный героизм, вынося с поля боя раненых солдат и офицеров. Оказывая медицинскую помощь на полях сражения, под огнем противника, они вернули в ряды защитников родины миллионы спасенных ими бойцов. Многие из санитарок были представлены к награде: кто-то к медали «За боевые заслуги», кто-то к ордену «Красной звезды», кто-то даже к высшей награде – «Ордену Ленина». Известный полководец Маршал Советского союза Иван Баграмян писал после завершения войны: «То, что сделано было санитарками в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом». Не случайно на Мамаевом кургане воздвигнут памятник санитарке, молодой девушке, выносящей раненого солдата на своих плечах. Рекомендуем обсудить: 1.С. Сергеев–Ценский «Хитрая девчонка» 2. В. Каверин «Самое необходимое» 3. В. Каверин «Кнопка» |




 Читаем вместеПроизведения о войне
Читаем вместеПроизведения о войне